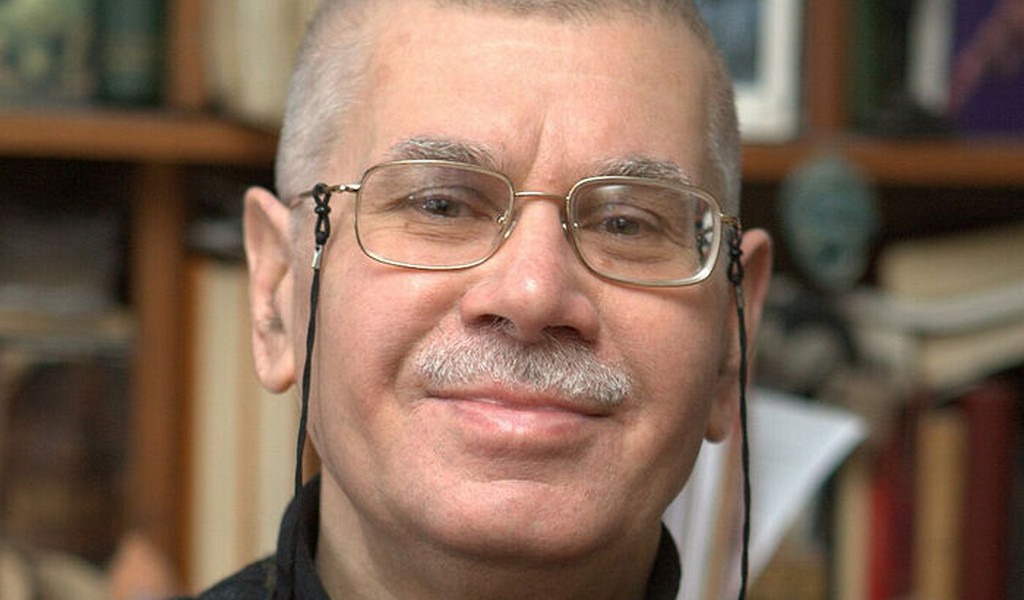Православный ученый Сергей Хоружий размышляет над текстом Апостольского послания Orientale lumen — Свет Востока Римского папы Иоанна Павла II.
Работа ученого учит строгости. Надо писать лишь о том, чем ты занимаешься, в чем понимаешь хотя бы не хуже других, о чем можешь сказать что-нибудь свое, найденное тобою самим. Однако послания папского престола, межцерковные отношения, сравнительная история православия и католичества – все эти вещи весьма заметно удалены от круга моих специальных тем и предметов. У меня нет здесь ни особенной эрудиции, ни опыта наблюдений и ни малейшего права кого-либо представлять, говорить от чьего бы то ни было имени, кроме своего собственного. Что же остается тогда? Как кажется, одно только — простое частное мнение, бесхитростное свидетельство. «Человеческий документ». У такого документа единственным оправданием и достоинством может служить открытость и прямота, речь без околичностей и начистоту. Я постараюсь стремиться к этому.
Новая папская энциклика говорит вначале о познании православия: она предлагает сжатый очерк того, что такое православная духовность, каковы главные духовные ценности и установки православия. Затем она говорит о встрече Традиций, об углублении общения западных и восточных христиан, о задачах и ожиданиях, успехах и трудностях на этом пути. Будем и мы следовать этому порядку, который легко признать естественным. Первый круг тем — спокойней, он больше сосредоточен на соединяющем общехристианском достоянии двух Церквей и меньше затрагивает то, что их разделяет, все острые и дискуссионные, веками накапливавшиеся, но редко, увы, снимавшиеся вопросы. Незачем слишком торопиться к ним и выпячивать их сверх меры; однако, рассматривая второй круг тем, коснуться их будет неизбежно и необходимо. Только подчеркнем снова: все, что мы скажем и на эти, и на другие темы, — будет сказано сугубо в порядке частного мнения, не преследующего никаких иных целей, кроме непредвзятого выражения.
1
«Я мысленно обращаюсь к Церквам Востока подобно тому, как это делали многочисленные папы в прошлом, сознававшие, что им было завещано, в первую очередь, сохранять единство Церкви и неустанно содействовать единству христиан... Разделение должно уступить место сближению и единству» [пп.3,4]. Такую мотивацию новой энциклики мы находим в ее Преамбуле. Как здесь же и указывается, это — самая традиционная мотивация, та, которою были движимы «многочисленные папы в прошлом». Потом мы еще вернемся к ней, а пока лишь констатируем то, что свидетельствует история: действия многочисленных пап в прошлом едва ли вызывали большой положительный отклик в православии и едва ли — впрочем, за важным вычетом последнего времени — привели к заметному возрастанию единства. Но, кроме традиционной мотивации, мы видим в Преамбуле и другие. Энциклика говорит: глубокой чертою нашего времени, конца ХХ века, стал «вопль о новой евангелизации»: насущная нужда в новой проповеди Евангелия ушедшему от христианства миру, равно как и нужда в новом укреплении и просвещении веры христиан. Ситуация глобального кризиса христианства, в столь разных формах поразившего и Восток, и Запад, породившего «вопль Рима, вопль Константинополя, вопль Москвы», — есть новый соединяющий всех момент, новое настоятельное побуждение к единству — а, тем самым, и к познанию православной традиции католиками. И наконец, еще один мотив – необходимость этого познания и самого по себе, независимо от ситуации эпохи с ее проблемами. «Поскольку... достойное древнее предание Восточных Церквей представляет собой неотъемлемую часть наследия Церкви Христовой, то для католиков изначально необходимо познание его с тем, чтобы питаться им» [п.1, курсив автора]. Здесь утверждаются имманентная ценность православного наследия и его коренная незаменимость в общем здании христианства, равно как и в духовном опыте каждого христианина. Мотив этот также не назовешь привычным в римском подходе к православию. Не будучи прямо отрицаем, едва ли он прежде занимал сколько-нибудь видное место. Меж тем, именно этот мотив, задача бескорыстного познания православия в его внутренней сути, ставится в центр всего первого раздела энциклики.
Существует, однако, множество способов и путей познания. Они очень разные, и наша научная эпоха чрезвычайно изощрена в них. Известны аналитические, феноменологические и многие прочие методологии; известны критические, мифологические и другие принципы истолкования духовных традиций и текстов. Какой же подход к познанию православия избирает «Orientale Lumen»? — Сразу можно увидеть, что этот подход далек от произвола или непродуманной импровизации. Но в то же время он оказывается далек и от научного анализа. Вот как формулирует его принципы сам автор, папа Иоанн Павел II: «Я мысленно обращаюсь к христианскому наследию Востока. Я не намерен ни описывать его, ни истолковывать: я готов выслушивать... При созерцании его моему взору открываются элементы особо важные... С уважением и благоговением я желаю здесь подойти к вопросу Богопочитания, проявляемого в этих Церквах» [п.5]. Ученый может сказать, что здесь предлагается объективный и непредвзятый подход; но этого будет явно мало. Готовность «выслушивать с уважением и благоговением» переносит нас в иную атмосферу, к иным отношениям, нежели отношение исследователя к объекту исследования. Очевидным образом, перед нами — установка познания, осуществляемого на путях личного и любовного общения. Трудно не счесть такой подход наилучше соответствующим предмету и теме. Познание в общении и любви — именно такой «гносеологический идеал» православная мысль утверждала с древности и до наших дней. Григорий Нисский в IV в. сказал: «Познание совершается любовью»; и в ХХ в. мы находим эти слова его эпиграфом к «Столпу и утверждению истины» о. Павла Флоренского.
Избранная установка познания в любви не могла не принести благие плоды. Сжатый очерк православной духовности, данный в «Orientale Lumen», никак, разумеется, не притязает на полноту, он с неизбежностью является весьма избирательным. При этом крайне легко что-то упустить, сместить пропорции, ударения, допустить толику субъективности, элемент личного или партийного предпочтения... — в столь кратком изложении это всеми было бы сочтено естественным и простительным. Но, удивительным образом, мы ничего подобного не обнаруживаем в энциклике. Выбор тем и расстановка акцентов здесь чутки, точны и взвешены — и вполне отвечают облику православного миросозерцания: тому, как православная традиция сама осмысливает и представляет себя в авторитетных современных свидетельствах.
Существенною особенностью этого современного самосознания традиции является признание стержневой роли исихастского подвижничества — древней мистико-аскетической школы «Умного делания», развиваемой в православном монашестве с IV в. и до наших дней. Сочетая в себе глубинное знание и тонкое, изощренное практическое искусство, исихазм распространял свое воздействие, чаще всего, лишь сокровенно, подспудно; но, тем не менее, он проникает и определяет собой весь стиль и дух православного монашества. Больше того, под его сильнейшим влиянием сформировался весь православный менталитет; именно в нем более всего коренятся специфические отличия православного этоса, принципов отношения к Богу, миру и ближнему, к назначению человека и своей личной судьбе. Эта роль исихазма — или, почти синонимично, монашества — как подспудного формирующего влияния и направляющего стержня, была осознана и подчеркнута в полной мере лишь в наши дни, трудами православных богословов последних десятилетий. «Наилучший путь, чтобы войти в православную духовность, — через монашество» – резюмирует Павел Евдокимов в своей книге «Православие», получившей широкое признание. И мы отчетливо видим, что энциклика папы в своем освещении православия избирает именно этот путь. «Монашество всегда было самой душой восточных Церквей», — прямо перекликается с Евдокимовым Иоанн Павел II. Чтобы следовать по такому пути, и в то же время суметь затронуть, пусть бегло, все важнейшие стороны жизни православия — таинства, богослужение, богословие, отношения с мирскими и плотскими началами... — «Свет Востока» находит свой изобретательный способ. Все эти стороны, все главные составляющие церковной и христианской жизни здесь представляются первоначально через их место и понимание в монашестве: как элементы пути монаха, монашеского мироотношения и служения. Тем самым, сам монашеский путь и жребий — питаемый и направляемый своим исихастским ядром — утверждается в общецерковном, а далее и всечеловеческом значении. Именно так он и видится в православии: как соль миру.
Если сердцевинную роль монашества можно назвать главной типологической особенностью православия, то главной вероучительной особенностью его следует, несомненно, признать учение об обожении, актуальном претворении человеческой природы в Божественную. Так говорит об этом один из крупнейших православных богословов нашего века, недавно почивший прот. Иоанн Мейендорф: «Учение об обожении есть центральная тема византийского богословия и всего опыта восточного христианства». И вновь энциклика папы прямо перекликается с самосвидетельством православия: «Учение Отцов Каппадокийцев об обожении вошло в традицию всех восточных Церквей... богословие обожения остается одним из особо ценных приобретений в восточной христианской мысли» [п.5]. Итак, в двух важнейших ключевых темах «Orientale Lumen» говорит о православии, точно следуя его собственным формулировкам.
Другие темы, что выделяет и рассматривает Первая часть энциклики, также неоспоримо принадлежат к самым глубоким и характерным отличиям православного видения. В учении о человеке и мире православная мысль, от отцов Церкви до современных богословов, всегда подчеркивала элемент холизма: причастность к домостроительству спасения и обожения всего цельного состава твари. В сфере учения о мире отсюда вырастала традиционная православная тема, которую на Западе часто называют темой космической литургии: тема об оправдании, обоживающем преображении материи и космоса, всего тварного мироздания. Этот имманентный космизм православного миросозерцания отмечается и принимается в энциклике: «Весь космос предполагается к полному воссоединению во Христе» [п.11]. В антропологии же холистическая установка развилась в обширную тему об оправдании телесности и, в частности, о соучастии тела в молитвенном восхождении к Богу и в финальном эсхатологическом преображении естества. Тема эта была одной из центральных в знаменитых исихастских спорах XIV в., когда православие, соборно осмыслив опыт афонских подвижников-исихастов, достигло «паламитского синтеза». Исихазм и паламизм слишком долго служили для католиков предметом неприятия и резкой полемики, и энциклика избегает их явно упоминать, следуя своему принципу «не выделять ту или иную богословскую тему из тех, которые возникли во время многовекового полемического противостояния между Западом и Востоком» [п.5]. И однако православное оправдание телесности, утвержденное, в первую очередь, зрелым исихазмом, находит в «Orientale Lumen» место и одобрение: «Сама телесность призвана к хвале, к красоте... Человеческое тело... присоединяется к Господу Иисусу» [п.11]. Больше того, весь заключительный раздел (п.16) Первой части, носящий название «Безмолвное поклонение Богу», говорит об исихастской духовности, утверждая общехристианскую и общечеловеческую ценность ее установки священнобезмолвия: «Молчание («исихия») — это существенный компонент восточной монашеской духовности... Мы должны признать, что все мы нуждаемся в таком молчании, преисполненном ощущения благоговейного присутствия... Все, верующие и неверующие, нуждаются в том, чтобы научиться такому молчанию, которое позволяло бы Другому говорить, когда и как Он желает, а нам — понимать Его слово».
2
Итак, Первая часть новой энциклики Римской Церкви представляет духовный мир православия, делая это с глубиной понимания, верностью передачи и безусловным признанием его общехристианской ценности. И коль скоро описываемые духовные основания представляются как ценимые и разделяемые — перед нами возникает впечатляющая база общности двух великих христианских традиций. На этой базе энциклика далее переходит к вопросу о встрече, сближении традиций, следуя своему прежнему принципу: выдвигать на первый план не то, что разделяет, а то, что уже достигнуто в сближении или же может в будущем ему способствовать. Данный принцип проводится весьма радикально: помимо общих формул, таких как «полемическое противостояние», «взаимное непонимание» или «прискорбные последствия разделения», — во всей энциклике не назван конкретно ни один пункт, разделяющий православие и католичество, — не говоря уже об анализе и обсуждении таких пунктов. Это нельзя считать недостатком; напротив, избранный принцип вполне оправдан в свете главных задач и целей «Orientale Lumen»: призвать к новым усилиям по восстановлению христианского единства и подчеркнуть все имеющиеся к тому возможности. Однако любое дальнейшее обсуждение — будь то самой энциклики или тем, поднятых в ее Второй части, — не сможет продвинуться ни на шаг, если будет так же отказываться конкретно назвать, каковы же стоящие между Церквами разделения.
По этой причине, размышляя о Второй части энциклики, о встрече традиций, нам не избежать вхождения в сферу конфессиональных различий. Но здесь я уже решительно должен оставить тон «объективного и компетентного обсуждения», на который, с грехом пополам, чувствовал себя еще вправе в темах о «познании православия». За каждым из вопросов в этой сфере — этапы истории и массивы аргументации, как правило, убедительной лишь для одной стороны. И мне пора снова повторить, что сказанное мной будет сугубо и исключительно — частным мнением, несущим отпечаток личности, пути, ситуации и нисколько не притязающим на всеобщую истину и убедительность.
Каковы реальные перспективы встречи традиций, их сближения и единства? Понятно, что они определяются «в тяжбе борющихся качеств», как сказал Пастернак, в соотношении Pro и Contra. Энциклика убедительно развертывает все Pro, сама как бы являет собою еще одно весомое Pro, однако о Contra говорит лишь глухими упоминаниями или намеками вскользь. Так что же, сколько же все-таки лежит на этой, противоположной чаше весов? Я могу здесь надежно говорить только о своем собственном опыте — и поэтому буду откровенно субъективен.
Чем больше я узнавал два духовных мира, православный и католический, чем пристальней и точней пытался увидеть каждый из них, — тем более разительны, кардинальны казались мне их различия. Они обнаруживались всюду, во всех аспектах и областях религии. Тут были два разных типа религиозности, и разнились они во всем, от самой внешней, выразительной стороны, от религиозного стиля, и до самой глубинной, внутренней стороны, до существа Богоотношения, суммируемого догматами. Что из всего этого существенней и важней — считают по-разному; но в части религиозных основ главным признается, конечно, догмат. По всем моим представлениям, по явно теоретическому складу разума, мне тоже думалось так. И именно в сфере догмата мне виделись самые вопиющие расхождения. Все пресловутые католические привнесения в догматику, начиная от Filioque, вызывали у меня самое определенное несогласие, казались чуждыми, инородными керигме, духу и основаниям вероучения.
Любопытно, что за этой реакцией отнюдь не стояло ни влияния какой-либо богословской школы, ни даже особого изучения вопроса: просто она сама, спонтанно воспроизводила традиционную реакцию православного сознания, православного духовного типа. Не вдаваясь в историю и в анализ доводов, в тонкости и детали, я просто ощущал, что мне неприемлемы:
Filioque — как умаление Духа. Если Отец и Сын Оба равно изводят Духа, имеют одно и то же, общее «отношение изведения» к Духу — то Дух ведь тогда про-изводен от Них, вторичен — и, стало быть, не равночестен во Св.Троице. И к этому православное сознание предельно чувствительно, ибо, как пишет справедливо энциклика, «в обожении восточное богословие приписывает совершенно особую роль Духу Святому» [п.6].
Догмат о папской непогрешимости — как элемент язычества, старой жреческой и магической религиозности. «Ex cathedra» — определенные внешние условия речи римского первосвященника; но нет и не может быть таких внешних условий, которые одни, сами по себе, автоматически и с гарантией обеспечивали бы благодатную Богодухновенность.
Догмат о непорочном зачатии Богоматери — как еще уступка язычеству, отход от христианской картины бытия, где есть только Бог и тварь, и нет никаких иных онтологических различий, никаких промежуточных бытийных ступеней. «Непорочное зачатие» есть знак именно онтологического различия, отчего им и наделялся один Бог, Христос. Мария же, наделяясь им, отделяется от человеческого рода и делается особою промежуточной бытийной ступенью, какие вводит ступенчатая онтология неоплатоников. Но даже важней онтологической схемы другое. Если Искупитель родился не прямо из недр падшего человечества, не от одной из нас, а от некоего уникального и небывалого существа, — что же может это дать роду нашему? искуплены ли, спасены ли тогда мы с вами?!
Не сомневаюсь, что на выраженные здесь позиции имеются ответы и доводы; но все-таки сомневаюсь, чтобы уже сегодня существовали, найдены были такие, которые бы могли привести исходное и органическое православное несогласие – к согласию. (Исключение составляет лишь Filioque: по горькой иронии, это древнейшее и долго единственное, тягчайшее по последствиям догматическое расхождение может, на поверку, совсем и не быть расхождением, будучи понято как приемлемое для всех per Filium.) Вообще, во Второй части энциклики в заметной мере теряется то изумляющее совпадение с православным взглядом, которое мы не раз отмечали. Это огорчительно — но, видимо, увы, неизбежно. Помимо духовных установок — области, где энциклика умело и чутко находит огромные возможности для сближения, — здесь речь также о вещах фактических и практических, и на многие из них взгляд с Запада и с Востока пока заведомо очень неодинаков.
Театр начинается с вешалки, а диалог — с обращения, называния по имени. Но в папской энциклике, посвященной православию и множество раз обращающейся к православным, почти нет этих слов — «православие» и «православные». Определяющее самоназвание Восточной Церкви до самого недавнего времени вообще не употреблялось официально в Церкви Западной, и в «Католической Энциклопедии» (Лондон, 1952) нас встречает следующий отсыл: «Православная Церковь — см. Греческая Схизматическая Церковь». «Свет Востока» начинает отходить от этого правила, но лишь понемногу и осторожно: здесь 6 раз стоит слово «православные» – исключительно в случаях, когда по контексту необходимо разделить «восточных», принадлежащих к православию и к униатству. Во всех же остальных случаях адресаты энциклики определяются безлично-географически, по занимаемому ими пространству: «те, которые на Востоке». В порядке взаимности, энциклика «Orientalium Dignitas» папы Льва XIII, с которой, как пишет «Orientale Lumen», «начался путь», ныне продолжаемый Иоанном Павлом II, неведома в православии и не стала никакой вехой в его отношении к Западу. Современный православный богослов О. Клеман пишет, что эта энциклика употребляла старый язык католических призывов к единству как «возвращению» православных под омофор папы и вызвала лишь «сухой ответ» православных патриархов. Русская Православная энциклопедия, говоря о Льве XIII довольно подробно, даже не упоминает о ней, но замечает зато, что папа стремился «усилить и расширить влияние папства не только на Западе, но и на Востоке». Но, может быть, сильнее всего западный и восточный взгляды расходятся меж собой в отношении к униатству. Для Рима униатство, «восточный обряд», — ступень к сближению и практический пример сближения, и «Свет Востока» утверждает, что «католики восточных обрядов... вместе с православными братьями, живые носители этого предания» [п.1], т.е. неискаженного предания православной Церкви. Но для православия это скорей — ступень к усилению, усугублению разделений, причем вовсе не по причине одной «политики», внешних и материальных факторов. Католичество недаром известно точностью языка, и его формула правильно выражает суть явления: «католичество восточного обряда» есть попросту католичество во всех многочисленных аспектах и измерениях жизни Церкви — в иерархии, организации и структуре, в богословии, в монашестве... — во всем, кроме лишь единственного — «обряда». Но разве не утверждает Предание, не только Восточной, но единой Церкви до разделения, — неразрывной связи и органического единства богослужения, молитвы и богословия? И если так, то разве нет сомнительного, двусмысленного в этом рассечении Церкви, живого Тела, на «восточный обряд» и католическое «все остальное»? Да простят меня католические братья, но аналогию составляют тут, в первую очередь, большевики, которые тоже разрешали оставить от православия один «обряд» и заменяли «все остальное» — только не католическим, а советским, превращая российских христиан в «советских людей христианского обряда».
Любое сравнение хромает, а мое, может быть, и заходит слишком далеко. Разумеется, я не думаю всерьез сравнивать Церковь Августина и Фомы с компанией Ленина и Сталина (с огромной ответственностью). Я просто привел несколько примеров тех разделяющих явлений, которые «Orientale Lumen» избегает называть въявь. Набор мой нисколько не чрезмерен — напротив, в нем многого и многого еще нет — и, в частности, самого острого и болезненного, груза давних конфликтов, настороженного предубеждения, обоюдного презрения («Презрение загнало нас в оборонительную позицию, также отвечающую презрением на свой лад», — говорит патриарх Афинагор I), далеких от реальности, но прочно сидящих предрассудков... Учтя все это, мы представляем, как огромен и тяжек скопившийся за века негативный груз. И в свете этого — простите за оксюморон — темного багажа, не следует ли решить, что энциклика папы, отказываясь говорить о нем, вводит в заблуждение или даже является «маневром Рима», и соглашаться с ее призывами — весьма неосмотрительно для православных? На это ответить можно только одно: если бы темного багажа было и еще гораздо больше, и если бы папа и не издавал никакой энциклики, — наши усилия все равно обязаны были бы направляться не к разделению, а к единству. Ибо необходимость единства христиан — не измышление папы для завлечения православных. Необходимость единства христиан — прямой завет Господа и часть краеугольных основ нашей веры. «Отче Святый! — говорит Спаситель на Тайной Вечери, — соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин 17,11). И во исполнение этого завета, не папа, а апостол Павел нас призывает: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф 4,1-3).
А что же до перспектив, до реальной достижимости христианского единства, то прежде всего известно: духовное делание исполняют, не имея и не требуя наперед гарантий успеха. Еще известно от Бога, что для любви Его и для пребывающих в любви нет непревозмогаемого и неодолимого в мирском обстоянии. «Пребывающий в любви пребывает в Боге... Если пребудете во Мне, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (1 Ин 4,16; Ин 15,7). И наконец, из самой жизни, из опыта каждого из нас ведомо, что наше время, наш мир, вдруг ставший столь малым и столь тесно переплетающим всех нас, — настойчивей, чем когда-нибудь говорят нам об общей судьбе и общем духовном долге христиан.
Как всегда, на поверхности вершится всякое, носится пена, и дело единства становится для кого-то делом корысти и политиканства, биржевой игры на повышение или понижение. Эти мутные стихии сегодня захлестывают в России все, и мудрость Писания учит нас, что и на Западе они тоже не могут не собирать своей дани. В этом я не умею и не стремлюсь разбираться, и поэтому не мне судить, что же делается на поверхности. Каждому свое. Но я знаю, что в глубине нашей веры действительно таятся неисчерпаемые родники единства и общности чад Христа, и энциклика папы отметила еще далеко не все из них. Сокровенные пути духовного восхождения, сколь ни различны, не могут не направляться к одному и тому же, к таинственному претворению, когда, по слову апостола, «уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал 2,20). Я с радостью вспоминаю недавнюю встречу в Италии, в монастыре Бозе, когда собравшиеся из четырех Православных Церквей — Русской, Греческой, Румынской, Болгарской — вместе с хозяевами-католиками вспоминали, обсуждали, чтили память и дело преподобного Паисия Величковского. Афон, преподобный Паисий и Оптина пустынь, «Добротолюбие» и св. Феофан Затворник... — есть ли что-нибудь более «наше», более сердцевинное в русском христианстве и православии? И неожиданно для нас, это «наше» оказывалось для «них» не только знакомым, но и нужным, ценимым, близким. Оно оказывалось внятным для католического сознания и питающим его — словно пробившийся из глубин родник.
По теме: смотрите историю, видео и жития старцев Оптины на сайте монастыря Оптина пустынь. Поездка в Оптину пустынь — важный шаг для любого, кто желает лучше понимать глубины русской православной традиции.

 DE
DE  UK
UK  EN
EN